Бытует мнение, что вьетнамский язык – очень сложный язык, и без абсолютного слуха у изучающего ничего не получится. «Однако, если правильно изучать язык, с хорошим преподавателем, то проблемы возникают очень редко», – считает доцент Переводческого факультета МГЛУ Елена Робертовна Зубцова. Отечественная методика преподавания при определённых усилиях со стороны изучающего гарантирует успех. А жёсткий тональных рисунок языка компенсируется относительной лёгкой грамматикой.
Какие есть особенности у вьетнамского? Почему знание грамматики, лексики, правильно поставленная фонетика не являются залогом успешной коммуникации? Почему директора зовут «дедушкой», а молодого профессора «бабушкой»? Чем страшны диалекты? И почему вьетнамист – это диагноз? Ответы на эти и другие вопросы в седьмом выпуске подкаста «Восточные языки, или Забег на длинную дистанцию».
OR: Здравствуйте, Елена Робертовна!
Зубцова Е.Р.: Добрый день!
OR: Какие особенности вьетнамского языка можно выделить?
Зубцова Е.Р.: По какой-то причине вьетнамский язык считается очень сложным. Даже существует миф, что без абсолютного музыкального слуха его невозможно изучать. На самом деле, если правильно преподавать фонетику, то проблемы возникают очень редко. За всю практику у меня было лишь несколько случаев, когда студент просто «не слышал» тоны и звуки. Такие случаи встречаются очень редко, поэтому, когда они возникали, мы старались сразу переводить ребят на другой язык. Впоследствии эти студенты учили нетональные языки и прекрасно заканчивали университет. Большинство же вполне нормально осваивают фонетику вьетнамского языка. Еще в 60-х годах прошлого века первыми отечественными преподавателями вьетнамского языка была разработана блестящая система преподавания фонетики и грамматики. По этой методике фонетика объясняется через артикуляцию. Сейчас мы с вьетнамской коллегой эту, скажем так, не самую научную систему включили в новый учебник, который недавно закончили писать. Это начальный курс вьетнамского языка для студентов первого и начала второго годов обучения. В нём мы объясняем фонетику именно с точки зрения практических навыков, то есть с демонстрацией артикуляции. Большинство студентов нынешнего 2 курса МГЛУ, на которых мы впервые опробовали новый учебник, очень прилично освоили фонетику за первый семестр обучения. Сейчас они уже чисто и хорошо читают, говорят на языке. Поэтому главное в методике преподавания вьетнамского языка на начальном этапе — уметь правильно объяснить, но, к сожалению, не все методики дают такой результат. Во Вьетнаме я встречалась с иностранцами, которые учили вьетнамский язык у себя в странах, а потом просили исправить им фонетику, так как вьетнамцы их почти не понимали. Исправлять, конечно, было намного сложнее, чем ставить с самого начала. Исходя из этого я считаю, что советская методика преподавания вьетнамского языка была и остаётся лучшей в мире. У меня в МГИМО в 80-х годах был один ученик из ГДР, который до сих пор блестяще говорит по-вьетнамски (сейчас он высокопоставленный чиновник ООН), так вот когда у него брали интервью вьетнамские журналисты и спрашивали, где он так прекрасно выучил язык, он отвечал, что так можно выучить вьетнамский только в Советском Союзе. Я встречала выпускников вузов разных стран, в том числе и тех, кто учился во Вьетнаме, и могу сказать, что среди отечественных вьетнамоведов намного больше профессионалов, чем в других странах.
OR: Правильно ли я понимаю, что выучить или учить вьетнамский самостоятельно практически невозможно, потому что сейчас очень много роликов на Youtube, где рассказывают, что вьетнамский совсем не сложный.
Зубцова Е.Р.: Честно скажу, что это профанация. Наверное, можно выучить вьетнамский на уровне разговорной практики: сходить в магазин, пообщаться в кафе или в какой-нибудь туристической компании. Однако для того, чтобы владеть языком профессионально, обязательно нужен на первом этапе обучения грамотный преподаватель. Даже некоторые вьетнамцы, которые в России растят своих детей и хотят, чтобы дети знали родной язык, ищут преподавателей вьетнамского языка не среди соотечественников, а среди россиян. Я сама занималась два года с мальчиком, у которого папа вьетнамец, а мама русская, и родители не захотели брать преподавателя-вьетнамца на начальном этапе обучения. Они считали, что наши преподаватели лучше объяснят азы языка, и только потом можно будет уже заниматься с носителем.
OR: У вьетнамцев нет методики преподавания вьетнамского как иностранного?
Зубцова Е.Р.: Конечно, у них есть своя методика. Наши сстуденты, когда приезжают на стажировку в страну, учатся как раз по этой методике. Во Вьетнаме во многих гуманитарных вузах есть факультеты изучения вьетнамского как иностранного, существуют также разнообразные курсы. Однако по моим наблюдениям и отзывам моих студентов, которые были на стажировке, от этих занятий бывает толк только в том случае, если у тебя уже есть языковая база и ты приезжаешь развивать свои навыки, набирать новую лексику, изучать какие-то разговорные выражения, познавать грамматические нюансы. Может, моя оценка субъективна и коллеги с ней не согласятся, но я в своей практике не встречала хороших вьетнамистов (кроме старшего поколения, которые были «первопроходцами» во вьетнамоведении), которые начинали бы учить язык с нуля в стране с носителем. Я, конечно, извиняюсь перед своими вьетнамскими коллегами, может быть, они на меня обидятся, но моя практика показывает, что преподавать вьетнамский язык как иностранный лучше всего по нашей методике: от простого к сложному. То есть мы начинаем петь каждый тон ma ma ma, la la la, отрабатываем ровный тон, потом подключаем другие тоны: ma ma ma mà, la la la lá и так далее. Так мы отрабатываем все тоны, фактически поём три месяца. Параллельно, естественно, подключаем какую-то лексику, грамматику, объясняем структуру языка. Однако если не пропеть и не прочувствовать эти тоны с самого сначала, то очень сложно потом правильно говорить, не срываясь на неправильные тоны, что, соответственно, приводит к искажению значения слов. Во вьетнамском языке одна морфема с шестью разными тонами может иметь шесть разных значений. Похожая картина и в китайском языке, только китайский язык имеет четыре тона, а у нас их шесть. Поэтому тут очень важно с самого начала поставить правильную фонетику. Если обучающийся прочувствовал все эти тоны, то дальше ему уже проще заниматься. У кого-то язык лучше идёт – говорит абсолютно чисто, у кого-то артикуляционный аппарат немножко слабее, говорит с некоторым акцентом, но тем не менее всё равно этот жёсткий тональный рисунок устанавливается, и в дальнейшем проблем с пониманием носителями языка не возникает.
OR: Главная загвоздка – это произношение. А остальное, грамматика?
Зубцова Е.Р.: Грамматика относительно лёгкая, если её правильно, системно объяснять. Самое сложное — это освоить фонетику и прочувствовать строй языка, его систему. Во вьетнамском языке одно слово может быть и глаголом, и существительным, и прилагательным в зависимости от контекста, от его местоположения в предложении. Поэтому необходимо прочувствовать систему языка. Если прочувствуешь – языковые навыки приходят быстро. Наши студенты с первого курса начинают переводить и, соответственно, у них появляется опыт перевода.
В прошлом году был интересный случай, когда я выступала на международной конференции в Ханое по обучению вьетнамскому языку. После моего выступления один преподаватель, вьетнамец, задал мне вопрос: с какого курса мы начинаем учить студентов переводу. Я сначала даже не поняла вопроса, а потом ответила, что с первого курса: сначала это перевод на примитивном уровне (по предложениям или по каким-то небольшим абзацам), а дальше сложность текстов возрастает. Вьетнамский преподаватель подумал, что я не поняла вопроса и переспросил ещё раз, а, получив тот же ответ, очень удивился, потому что, как оказалось, во вьетнамских вузах только с третьего курса начинается обучение переводу, а до этого студенты изучают лишь отдельные слова, грамматику, переводят какие-то предложения, учат диалоги и так далее. То есть серьёзному переводу мы начинаем учить студентов с первого курса, а во Вьетнаме переводу учат только с третьего. Наши методики сильно отличаются. Мы сначала обучаем фонетике, потому что без этого невозможно говорить на языке, потом подключаем грамматику, лексику, вводим ситуативные уроки уже на том минимальном уровне, который студенты имеют. Они могут составлять между собой спонтанные диалоги, и так называемые “ролевые уроки” проходят, начиная с первого семестра первого курса. Ребята с удовольствием составляют диалоги, распределяя между собой роли. Потом, во втором семестре, мы уже начинаем подключать последовательный перевод, например, двое студентов между собой беседуют, а кто-то третий эту беседу переводит. Таким образом, двусторонний перевод у нас начинается с первого курса. На старших курсах мы уже вводим “игровые уроки”, когда моделируем какую-либо ситуацию. Например, на старших курсах мы проводили заседание в ООН по какому-то выбранному заранее вопросу. Если надо, мы подключаем ещё и перевод. Кто-то выступает, кто-то последовательно переводит, потом меняются ролями. Синхронного перевода у нас, к сожалению, нет, а вот последовательный перевод мы начинаем тренировать с первого курса. И это не только в МГЛУ, то же самое было и в МГИМО, где я преподавала.
OR: С какого момента подключается носитель языка?
Зубцова Е.Р.: В некоторых вузах его нет вообще. Нам очень повезло, что у нас есть замечательный профессиональный носитель языка, кандидат наук, выпускница факультета международной журналистики МГИМО, которая много лет работала на вьетнамском телевидении. Три года назад она начала преподавать у нас в МГЛУ, и оказалось, что это ещё и великолепный педагог. Естественно, такого носителя можно и нужно подключать с первого курса. То есть я веду основную, базовую часть, ставлю фонетику, объясняю грамматику, лексику, а разговорную часть отрабатывает носитель языка. У нас идеальные условия, поскольку, например, в том же Институте стран Азии и Африки МГУ, который я окончила, своего носителя нет. Кстати, когда я преподавала в МГИМО, у нас тоже не было носителя языка, однако, когда наши ребята оканчивали вуз с блестящими знаниями, многие думали, что они учили язык во Вьетнаме – так хорошо они говорили и переводили. Студенты тогда с гордостью говорили, что учили его в Советском Союзе, а великолепное знание языка давали не носители, а блестящие преподаватели, гуру вьетнамистики: Ивета Ивановна Глебова, Идалия Евсеевна Алёшина, Инна Анатольевна Мальханова и другие. Совсем недавно по вьетнамскому телевидению прошёл показ цикла фильмов, снятых к 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Там выступал мой бывший ученик и недавний посол России во Вьетнаме Андрей Ковтун, и он тоже отметил, что несмотря на то, что в МГИМО не было носителя, педагоги давали студентам блестящие знания. Многие закончившие вуз с вьетнамским языком добились больших успехов в карьере.
OR: Какую роль тогда играет стажировка, обязательна ли она?
Зубцова Е.Р.: Стажировка обязательна, поскольку это погружение в языковую атмосферу. Какие бы хорошие теоретические знания мы ни давали, всё равно пока сам не побываешь в стране, не прочувствуешь эту атмосферу, не пообщаешься с местными жителями, не прочувствуешь их менталитет, уровень общения на разных уровнях, начиная с бытового и заканчивая официальным — будет очень сложно работать. Так, у многих наших соотечественников – специалистов, бизнесменов, которые приезжают во Вьетнам, не советуясь с вьетнамистами, с профессионалами, возникают проблемы, не получается быстро и эффективно решать вопросы. Потому что они не знают, как надо разговаривать с восточными людьми, как выстраивать беседу, переговоры. Я думаю, это касается не только Вьетнама, но и, наверное, всех восточных стран. Поэтому, конечно, нужно советоваться со специалистами, прежде чем начинаешь какое-то дело. Но у нас, к сожалению, это происходит крайне редко. И очень часто неумение задать вопрос или правильно обратиться к человеку приводит к неудаче в решении той или иной проблемы. Я только путём практического опыта поняла, что вьетнамцев, даже близких друзей, нельзя ни о чём просить. Потому что, если ты о чём-то их просишь, а они не могут тебе помочь, они чувствуют себя очень некомфортно: отказать неудобно, а помочь невозможно. Я, когда учу студентов, делюсь своим опытом, объясняю, что не стоит обращаться к кому-либо с прямыми просьбами. Если спрашивают: «Как дела?», отвечайте: «Всё нормально», а потом за чашкой чая как бы вскользь упомяните о своей проблеме. Если вьетнамец может помочь, он тебе сам скажет об этом, если не может помочь — он промолчит. К сожалению, эти тонкости общения приходят либо с практическим опытом, либо из рассказов преподавателя, который знакомит студентов с какими-то нюансами общения. На таких мелочах многое базируется. А если ты не побываешь в стране, всё это не прочувствуешь, то потом можешь попасть в неловкую ситуацию. Более того, на стажировке важно подышать воздухом страны, посмотреть, как люди живут, пообщаться, узнать что-то интересное. Я считаю, что стажировка — очень важный аспект обучения языку, без этого учёба в вузе очень сухая. Я говорю студентам, что им необязательно зацикливаться на занятиях, которые им предлагают в том или ином университете. Главное — это живое общение с людьми. Даже если вы что-то не доучите, какую-то лексику, грамматику - это нестрашно. Важно, чтобы вы прочувствовали атмосферу и «развязали» свой язык, потому что самая основная проблема, которая есть у многих ребят, заканчивающих институт (и у меня была в своё время) — это боязнь общения. Когда я начала работать с делегациями (уже после второго курса работала с делегациями переводчиком), то за две недели работы получала больше навыков, чем за весь семестр в университете. Практика вынуждает тебя преодолевать страх говорения, даёт возможность разговориться. Я всегда говорю студентам, чтобы они сами просили носителей поправлять их ошибки, потому что вьетнамцы могут из деликатности не обращать ваше внимание на неправильное произношение или словоупотребление, боясь обидеть. Исправление ошибок — важная часть практики. А когда в аудитории вьетнамский преподаватель даёт какие-то новые слова, выражения — это не так важно, как живое общение и практика. Но это, конечно, не означает, что надо прогуливать обязательные занятия – к этому я студентов не призываю.
OR: За какое время можно заговорить на вьетнамском?
Зубцова Е.Р.: Всё зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. Если попадаешь в страну, то вполне реально заговорить уже после первого курса. Если речь идёт о студентах МГЛУ, то их первые стажировки предусмотрены со второго семестра второго курса. После полутора лет обучения мои девочки из первой группы 2017 года набора вполне справились со стажировкой во Вьетнаме. Когда я училась в университете, студенты ездили на стажировку только после четвёртого курса, так как считалось, что до четвёртого курса ещё недостаточно знаний и навыков, чтобы учиться во вьетнамском вузе, но мои студенты со второго курса уже освоились. За первые полтора года обучения в Москве они получили языковую базу, которая позволяла им чувствовать себя уверенно. Причём студентки мне потом рассказывали, что их поместили в группу иностранцев, которые учили язык уже по два-три года. То есть мои студентки, если сравнивать срок изучения языка, были самыми неопытными, но чувствовали себя очень уверенно, потому что с помощью полученной базы легко могли заниматься на уровне тех, кто учил язык три года.
OR: Корейский, японский – очень иерархичные языки. Во вьетнамском есть ли какие-то степени вежливости?
Зубцова Е.Р.: Несомненно! Самая большая трудность для студентов, помимо фонетики, — это система обращений. Во вьетнамском языке мало личных, нейтральных местоимений. В основном личные местоимения относятся к терминам родства, и очень важно знать, как к кому обращаться в той или иной ситуации, чтобы не показать себя невеждой.
OR: Даже к незнакомым людям нужно обращаться по терминам родства?
Зубцова Е.Р.: Раньше (в советские времена) незнакомые вьетнамцы обращались друг к другу đồng chí (товарищ), теперь “старший брат” или “старшая сестра”. Есть слово tôi (я), оно нейтрально, его можно использовать в любой ситуации. На “Вы” чаще всего можно обращаться: “старший брат”, “старшая сестра”. Если это уважаемый человек или чиновник, занимающий высокую должность: посол, министр и пр., тогда к нему обращаются ông (дедушка) или bà (бабушка), в зависимости от пола. В моей жизни даже был случай, когда меня в 30 лет девочки 17 лет называли бабушкой, потому что они относились ко мне с пиететом, так как я знала несколько иностранных языков, включая вьетнамский. В более фамильярном общении есть система молодёжных обращений, система обращений между близкими друзьями или родственниками. Это очень сложно для восприятия европейцами: сидишь во вьетнамской семье друзей, когда ты уже перешёл на близкий уровень общения, беседуешь со всеми членами семьи и называешь себя то “тётушкой” (разговаривая с младшими членами семьи), то “племянницей” (обращаясь к старшему поколению семейства) и т.д.. Такие тонкости, конечно, студенты осваивают не сразу, опыт приходит только после длительного пребывания в стране. Ещё одно важное правило: никогда нельзя переходить с вьетнамцами на более фамильярное общение, пока они сами тебе этого не предложат. То есть изначально ты с ними общаешься на нейтрально-вежливом уровне. Если, например, вьетнамцы, которые старше тебя по возрасту, сами захотят перейти на более близкий уровень общения, они предложат, например, называть их “дядюшкой” или «тётушкой», а себя - “племянницей”.
OR: Нельзя фамильярничать в самом обращении или и в структуре языка?
Зубцова Е.Р.: В структуре языка мало различий между уровнями общения. Есть фразовые частицы, которые в разговорной речи можно употреблять, а в официальной - нельзя. Однако в основном уровни общения разграничиваются терминами родства и обращениями. На самом деле, во вьетнамском языке не так много таких вещей. В основном всё зависит от обращений, фразовых частиц и некоторой лексики, а с точки зрения грамматики мало что меняется.
OR: Хочется спросить, а если ругаются?
Зубцова Е.Р.: В этом году ваш коллега, Игорь Бритов, вместе с вьетнамским соавтором выпустил великолепный учебник, пособие по переводу художественных текстов. Там он, например, приводит примеры, как по изменению системы обращений можно понять, ласково разговаривают супруги или ругаются. Во вьетнамской семье при общении, даже если муж младше, жена зовёт себя “младшей сестрой”, а мужа - “старшим братом”. Если жена начинает в разговоре с супругом переходить на официальный уровень, звать себя на нейтральное “я” или как-то иначе, значит, она сердится на мужа или ругает его. Трудно сказать, как это переводить, но опытный переводчик, улавливая эти тонкости, начинает подбирать русские эквиваленты. То есть по изменению системы обращений уже можно понять, как меняется тон того или иного персонажа.
OR: За какое время можно освоить вьетнамский и говорить уже на приличном уровне?
Зубцова Е.Р.: Если преподавать язык хотя бы по десять-двенадцать часов в неделю, то в конце третьего курса студенты могут работать переводчиками уже на очень приличном уровне. Студенты за первые полтора года осваивают грамматику, затем набирают определённый лексический запас, и к концу третьего курса они уже уверенно говорят и переводят. К этому времени у большинства фонетика уже на хорошем уровне и, соответственно, хороший лексический запас, который они набирают по разным аспектам за три года, что позволяет им работать переводчиками в разных структурах, с разными делегациями. Если студенты работают на переводе делегации по определённой тематике, то некоторую специальную лексику необходимо подучить заранее. Например, студенты МГЛУ работали после третьего курса на Армейских Играх и готовились к переводу по своим направлениям — кто-то переводил танкистам, кто-то кинологам и т.д.. Они хорошо подготовились заранее и получили после третьего курса позитивные отзывы о своей работе от вьетнамских делегаций, медали и грамоты от Министерства обороны РФ. Я знаю, что в МГИМО студенты после третьего курса тоже уже работают с делегациями. А четвёртый и пятый курсы — это уже «огранка алмазов в бриллианты»: мы ещё больше отрабатываем навыки двустороннего перевода, проводим различные разговорные ситуативные уроки, дискуссии. Студенты на занятиях «работают переводчиками» по очереди и после пятого курса выходят готовыми специалистами.
 Е.Р. Зубцова, доцент Переводческого факультета МГЛУ
Е.Р. Зубцова, доцент Переводческого факультета МГЛУ
OR: Еще один вопрос — диалекты.
Зубцова Е.Р.: Во Вьетнаме официально признаны три диалекта. Мы изучаем язык по ханойскому, столичному диалекту Северного Вьетнама. При этом существует ещё южновьетнамский диалект и центральный вьетнамский диалекты (не считая языков нацменьшинств, которых во Вьетнаме несколько десятков). Три основные диалекта сильно друг от друга отличаются. Южновьетнамский диалект в основном отличается фонетически (то есть его можно хорошо понимать, если какое-то время пожить и поработать на Юге). Например, на южновьетнамском диалекте “Bây giờ” (бэй зё) «Который час?» произносится как “бай ё”. Лексики, отличающейся от северного диалекта, в южновьетнамском не очень много, в основном бытовая. Если же брать центральный диалект, то там совсем иной язык. Многие ханойцы, приезжая в Центральный Вьетнам, первое время ходят с местными переводчиками. Мне рассказывали об этом знакомые и в Ханое, и в Дананге.
OR: То есть не все знают стандартный язык?
Зубцова Е.Р.: В любой части страны понимают, когда ты говоришь на ханойском диалекте. Но самому понять центральновьетнамский диалект очень сложно. Там не только фонетика отличается, но и значительный пласт лексики. В моей практике был такой случай: когда я была директором РЦНК в Ханое, меня пригласили в посольство на встречу с делегацией из Центрального Вьетнама, из города Хюэ, древней столицы Вьетнама, где раз в два года проходит большой фестиваль искусств. В том фестивале принимал участие наш ансамбль песни и пляски, и делегация из Хюэ приехала в Ханой обсудить с послом РФ организационные вопросы. Когда глава делегации начал говорить, переводчик, выпускник МГИМО, не всё понимал, поскольку вьетнамец в своей речи использовал местную лексику. Остальные члены делегации начали ему тихонько подсказывать ханойскую лексику, чтобы переводчик мог понять и правильно перевести. Я, кстати, тоже не всё понимала, потому что центральновьетнамский диалект не знаю. Думается, это показательный пример, показывающий, что на переговорах такого уровня вьетнамцы все равно забываются и начинают использовать местную лексику, которую не понимают даже многие ханойцы.
В Центральном Вьетнаме очень сложно работать. Я не завидую ребятам, которые попадают после наших вузов в консульство в Дананге, потому что им приходится учиться многому заново. Вьетнамцы их понимают, но они не понимают местных жителей. Кстати, такое же происходит и со всеми арабистами, которые учат в вузах классический арабский язык. Студенты-арабисты, которые, например, приезжают на работу в Йемен, учат там йеменский диалект, когда отправляются в Ливию - учат ливийский диалект и так далее. Приходится каждый раз переучиваться. То же и с Центральным Вьетнамом. На Юге проще, но все равно приходится приспосабливаться какое-то время. Мой сын работал много лет в Ханое, а потом их офис перевели в Хошимин, и он потом рассказывал, что первые несколько месяцев чувствовал себя очень неуверенно, потому что из-за непривычного произношения плохо понимал южан. Более того, они говорят быстро, половину звуков глотают, и он порой чувствовал, что вообще ничего не понимает. Но потом привык, и уже два года спокойно работает. Кстати, раньше передачи центрального телевидения во Вьетнаме шли только на северном диалекте, но последние десятилетия и дикторы, и корреспонденты набираются как среди северян, так и среди южан.
OR: То есть, получается своего рода двуязычная страна?
Зубцова Е.Р.: Двудиалектная страна, да. А раньше, ещё двадцать лет назад было только классическое ханойское произношение и на радио, и на телевидении. Сейчас же можно услышать и южный, и центральный диалект. Однако вещают и на радио, и на телевидении, используя только общепринятую нормативную лексику. Стоит добавить, что дикторов-южан раньше не было, сейчас, как я уже говорила, по телевидению можно услышать разные диалекты. Вообще вьетнамцы после объединения страны в 1976 году стараются сохранять паритет не только в СМИ, но и во власти: если президент - южанин, то премьер - северянин или наоборот.
OR: Дайте, пожалуйста, советы для тех, кто только начинает изучать вьетнамский язык и для тех, кто уже продолжает изучать вьетнамский.
Зубцова Е.Р.: Необходимо любить то, чем ты занимаешься. Среди вьетнамистов бытует такая шутка: «Вьетнамист – это не профессия, а диагноз». Если вы заинтересуетесь страной, полюбите язык, то будете с удовольствием его изучать, находить всё новые радости в этом процессе. Если же вам язык не нравится, страна не симпатична, то лучше этим вообще не заниматься, толку не будет. Мотивация должна идти изнутри. Если преподаватель сможет зажечь огонёк в душах студентов, увлечь их, то и они с удовольствием будут заниматься не только по необходимости, но и «для души», искать какую-то интересную информацию о стране и языке, подходить к учёбе творчески. Так, например, самые любимые задания у моих студентов-младшекурсников именно творческие: придумать какой-то рассказ, составить какой-то диалог и т.п.. Если есть желание учиться, если страна привлекает, то всё непременно получится. А если страна изучаемого языка не привлекает, то и силы тратить особо не стоит, иначе может наступить разочарование. Но, прежде чем подавать документы на вьетнамский язык, надо изучить информацию о стране. Мне рассказывали коллеги-китаисты, что на китайский язык подают документы очень многие, потому что китайский язык сейчас очень популярен. При этом желающие учить китайский нередко не понимают, с какой страной они хотят связать свою профессию и жизнь. Например, когда их на собеседовании просят назвать крупные города в Китае, они даже такой простой информацией не владеют. Поэтому мой совет потенциальным вьетнамистам: прежде, чем начать изучать язык, узнайте немного о нём и о стране. Сейчас много можно почитать про вьетнамский язык и письменность. Но я советую выбирать язык осознанно, а не просто потому, что это модно или экзотично. Но а уж если уж попали по обязательному распределению на вьетнамский язык, то постарайтесь найти в этом какие-то позитивные моменты, заинтересоваться культурой страны, литературой, историей, духовной жизнью.
Не стоит четыре-пять лет тратить силы и энергию на язык, который ты захочешь побыстрее забыть после получения диплома. У нас в МГЛУ не разрешают переходить с языка на язык, лишь в самом начале можно поменяться с кем-то. Если уж совсем тяжко учиться, язык и страна категорически не нравится – то лучше не продолжать. А если интерес есть, то, конечно, надо побольше читать, побольше интересоваться разными аспектами жизни в стране изучаемого языка. Сейчас очень много информации в интернете, поэтому легко можно найти что-то позитивное в том, что ты делаешь.
OR: Предлагаю попрощаться на вьетнамском.
Зубцова Е.Р.: Xin tạm biệt cô, hân hạnh làm quen với cô, và hẹn gặp lại! (До свидания, было приятно с Вами познакомиться и до встречи).
OR: Спасибо Вам большое.
Ведущая: Елена Хохлова, шеф-редактор «Orientalia Rossica»
Менеджер проекта: Мария Чистякова
Расшифровка: Елизавета Кривоносова, Анна Лебедева
Монтаж: Ольга Волхонская
Корректор: Дарья Дронова

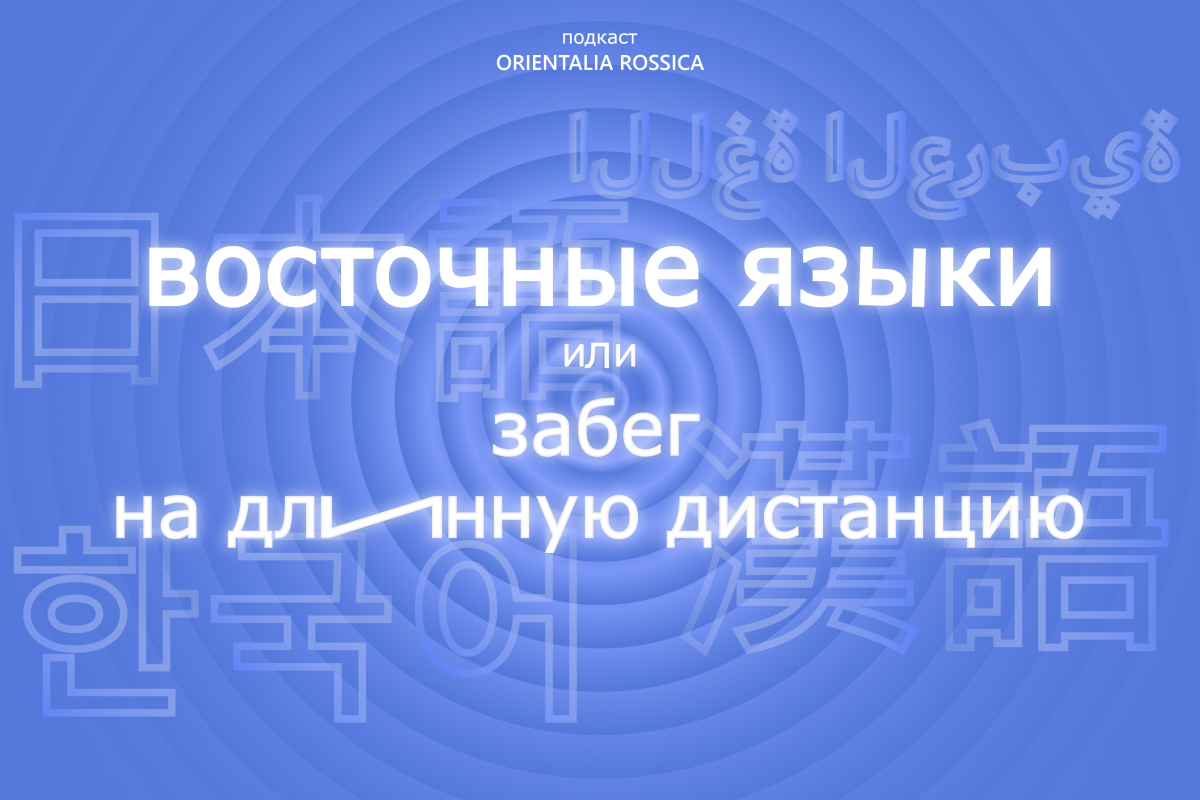


Комментарии
Добавить комментарий